Медицинский искусственный интеллект: помощник, модная игрушка или угроза?

наступило такое время, когда невозможность поддержать беседу об искусственном интеллекте (ИИ) и сферах его влияния на нашу жизнь — моветон.
Каждый уважающий себя специалист так или иначе должен придерживать руку на пульсе современных веяний, а пульсация разного рода интеллектуальных помощников на основе ИИ ощущается более чем явно. И было бы странно, если бы они не пришли в медицину. СППВР, ML, LLM и другие аббревиатуры из этой отрасли — уже наша медицинская реальность, которую необходимо понимать хотя бы на базовом уровне. Давайте вместе разбираться, в каких задачах ИИ уже может стать нам помощником и почему он все-таки не сможет заменить врачей, но будет способен дополнить их, создавая эффективный симбиоз.
Зачатки интеллекта машины
Стоит начать с того, что модное веяние ИИ началось не на пустом месте несколько лет назад. Можно считать, что «машинный разум» появился в 1951 году, когда британский ученый-программист Кристофер Стрейчи (его называли «человеком, пишущим идеальные программы») разработал первую программу искусственного интеллекта. Правда, наименование «искусственный интеллект» появилось на несколько лет позже, после Дартмутской конференции, где этот термин предложил американский информатик Джон Маккарти.
Что скрывается под этим термином? Целый набор подходов и методов, которые выполняют задачи, имитируя человеческие навыки — планирование, обучение, совершенствование по мере р добавления новых данных и так далее. То есть это не один конкретный алго-ритм, а целое отдельное направление компьютерных наук, в рамках которых создаются и изучаются алгоритмы, анализирующие информацию наподобие того, как это делает человек, но без обязательного биологического соответствия, например, структуре мозга.
В 60 — 70-х годах прошлого века информатики работали над формированием основных правил и созданием экспертных систем, в результате чего появились первые врачебные помощники типа современных систем поддержки медицинских решений. Но для добавления этим системам «интеллекта» все еще не хватало вычислительных мощностей и данных для обучения. А вот в 80 — 90-х область искусственного интеллекта шагнула вперед: появились методы машинного обучения (ML) и его подвида — глубокого обучения (DL), которое «в народе» называют нейросетями. Все это позволило программам учиться гораздо аффективное и улучшать свою производительность по мере накопления новых данных. Именно по этому принципу работала программа Deep Blue от IBM, которая в 1997 году обыграла чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
В 2000-х годах на первый план вышли задачи обработки естественного языка и компьютерного зрения, что привело к появлению виртуальных помощников типа Сири или Алисы, а также множества программ анализа изображений, включая медицинские. Поскольку искусственный интеллект продолжает активно развиваться, крайне важно обеспечивать его доказательной и этической базой, чтобы он разрабатывался на благо всех. Но эксперты считают, что его применение в клинической практике потенциально может произвести революцию в сфере здравоохранения.
Диагностика и анализ медицинских изображений
Несмотря на то что сотни программ для анализа медицинских изображений уже получили одобрение американского (FDA), европейского (СЕ) или российского (Росздравнадзор) регуляторов на клиническое применение, компьютерное зрение все еще находится на ранних стадиях полноценного использования на практике. Тем не менее наибольшие результаты показывает ИИ, направленный, например, на диагностику опухолевых заболеваний.
Так, одно из масштабных исследований! проведенных в Великобритании, продемонстрировало, что использование ИИ для интерпретации маммограмм привело к абсолютному сокращению ложноположительных и ложноотрицательных результатов на 5,7% и 9,4% соответственно.
в Южной Корее сравнивали диагностику рака молочной железы, проведенную рентгенологами или с помощью ИИ. ИИ оказался более чувствителен в плане скрининга по сравнению с рентгенологами: 90% против 78% соответственно. Кроме того, ИИ лучше выявлял рак молочной железы на ранних стадиях (91%), чем рентгенологи (74%). Но при этом рентгенологи, используя в своей деятельности ИИ, были гораздо более точны, чем те, кто им не пользовался.
Рак кожи, рак легких, заболевания органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза и мозга, переломы, диабетическая ретинопатия, аномалии на ЭКГ, а также прогнозирование факторов риска сердечно-сосудистых аболеваний — это все те области диагностики, где ИИ успешно себя показал в совокупности с врачом. А в некоторых случаях даже продемонстрировал возможность автономной работы, например, в области выявления нормы на рентгенограммах грудной клетки.
В 2022 году появился первый автономный радиологический сервис OxipitChestLink, получивший одобрение европейского, а затем и американского регулятора на использование в «клинике», а с 2024 года подобный подход начинает тестироваться? в Москве в рамках Московского эксперимента по применению компьютерного зрения для анализа медицинских изображений.
Что значит автономный? Это значит то, что ИИ, обладая 100%-й чувствительностью, будет маркировать снимки как норму и ненорму. Норма пересматриваться рентгенологом не будет, а автоматически сформированное заключение сразу отправится в электронную медицинскую карту пациента. Рентгенолог будет работать только с теми снимками, который ИИ пометит как ненорму (и это может быть не обязательно патология, а вариант развития и так далее).
Эксперты отмечают, что это позволит освободить до 50% времени рентгенологов, которое они могут потратить на случаи более сложные и требующие длительного погружения.
ИИ обладает потенциалом трансформировать и клиническую лабораторную службу за счет повышения точности, скорости и эффективности лабораторных процессов. В настоящий момент активно разрабатываются сервисы ИИ для обнаружения, идентификации и количественного определения микроорганизмов, диагностики классификации заболеваний и прогнозирования клинических исходов, основываясь на показателях анализов.
Классификация на грамположительные/отрицательные и кокки/палочки — еще одна важная задача, которую ставит клиническая лабораторная диагностика перед ИИ, и здесь он также способен демонстрировать высокую чувствительность и специфичность.
Автоматизация и ИИ существенно повысили эффективность лабо-раторий в отношении посевов крови, тестирований на чувствительность к антибиотикам и использования молекулярных платформ. Время результата сократилось до 24 — 48 часов, и это ускорило выбор подходящего антибиотика для лечения пациентов с определенными бактериальными инфекциями.
Генетика и эпидемиология
Анализирующий большие массивы данных ИИ гораздо лучше и точнее, чем это может сделать человек, может показаться отличным инструментом для эпиднадзора за заболеваниями и прогнозирования эпидемий. При наличии информации о том, какие группы людей генетически больше предрасположены к тем или иным заболеваниям и осложнениям (а при пандемии COVID-19 этому посвящалось немало исследований), машина может предсказывать потенциальные вспышки.
А значит, это дает возможность вовремя принять меры.
Кроме того, те же данные о генотипе позволяют уточнять индивидуальные прогнозы развития заболеваний для пациента, поскольку алгоритмы способны распознавать сложные паттерны генетических вариаций, что не всегда удается выяснить традиционными статистическими методами. Благодаря этой комбинации становится возможным и предсказание® фенотипов или наблюдаемых характеристик, формируемых генами и факторами окружающей среды совместно.
Так, к примеру, ИИ позволяет прогнозировать целый спектр фенотипов, начиная от простых признаков, таких как цвет глаз, и заканчивая более сложными — реакцией на определенные лекарства или восприимчивость к заболеваниям. Область, где ИИ уже показал себя с лучшей стороны, — это идентификация генетических вариантов, связанных с отличительными чертами или патологиями.
В одном из исследований для поиска генетических вариантов, связанных с расстройствами аутистического спектра (PAC), использовалась глубокая нейронная сеть. Учитывая эти умения, онкологи во многих научных группах плотно приступили к транскриптомному профилированию молекулярных типов опухолей при помощи ИИ, так как это краеугольный камень при назначении терапии. Такие молекулярные классификаторы имеют существенное значение для прогнозов на жизнь пациента и уже разработаны для рака молочной железы и распространены на другие виды рака: коло-ректальный рак, рак легких, яичников и саркомы. Отдельная большая группа задач для ИИ — поиск более эффективных действующих молекул и разработка новых лекарств, а также компьютерное моделирование токсичности разрабатываемой терапии. Одновременный анализ обширных геномных данных и других клинических параметров типа эффективности лекарств или побочных эффектов облегчает обнаружение новых терапевтических мишеней или позволяет перепрофилировать существующие лекарства (как это, например, произошло с популярным средством от кашля «Амброксолом», который внезапно оказался полезен при лечении болезни Паркинсона).
Поддержка клинических решений
Про персонализированную медицину говорят давно, где-то местами даже смогли ввести ее принципы в рутинную работу, но, кажется, только ИИ по-настоящему способен сдвинуть этот тяжеловоз повсеместно.
Если спросить участкового терапевта, работающего в нестоличной поликлинике, назначает ли он персонально подобранное лечение для пациента, основываясь на детальном изучении его биомаркеров, генотипа и других тонких деталей, он лишь саркастически усмехнется. Но имея в руках интеллектуального помощника, обученного на популяцонных данных и скорректированного собранной информацией о человеке (жалобы, анамнез, результаты лабораторных и инструментальных исследований), который предоставит обоснованные варианты диагнозов и возможного лечения, терапевт на вопрос о персонализации отреагирует уже иначе
То же самое касается других клинических специальностей.
Современные системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) наравне с телемедициной и электронными медицинскими картами (ЭМК) представляют на сегодняшний день один из ключевых сегментов развития цифрового здравоохранения.
Их можно условно разделить на три категории:
- помощь в лечении, включая дифференциальную диагностику, подбор препаратов и дозировок,
- помощь в мониторинге за пациентами, в том числе удаленно,
- анализ данных носимых устройств.
Даже в нашей стране, которая пока не слишком отстает, но и не занимает лидерские позиции, по состоянию на прошлый год, было разработано 29 таких СППВР. Некоторые из них типа Webiomed и ТОП-3 (разработка Сбера) уже получили регистрационные удостоверения, успешно внедрены и применяются в регионах, объективно облегчая работу врачей.
Подобные системы могут применяться для предсказания! индивидуальной реакции на антидепрессанты по информации, взятой из ЭМК, или для динамической оптимизации доз химиотерапии.
Уход за пациентами
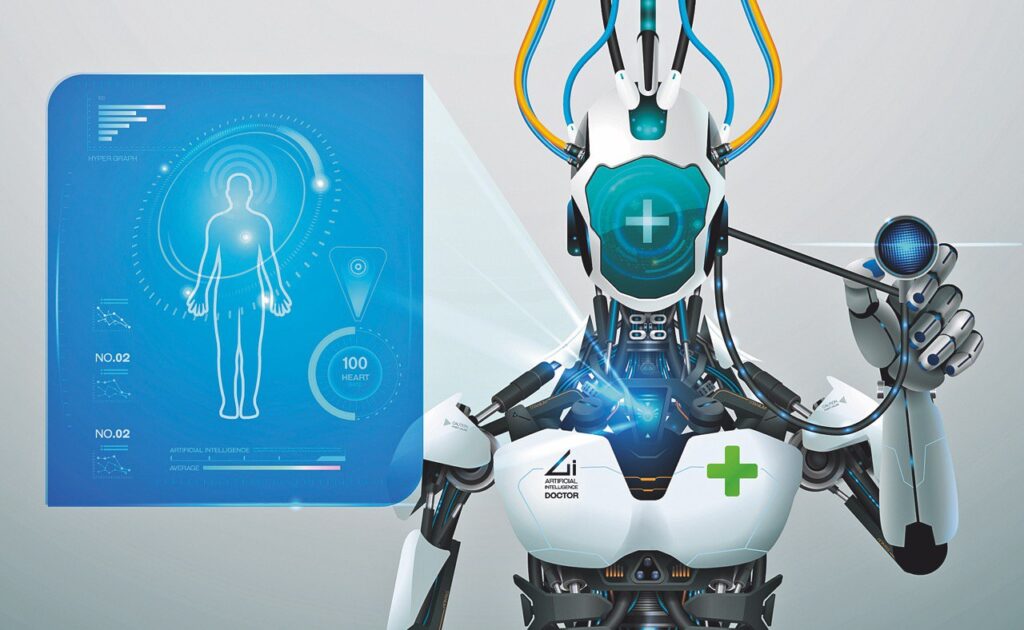
Виртуальные ассистенты — это еще один подход, который позволяет преобразовать отрасль здравоохранения и снизить нагрузку на медицинских работников.
Кроме того, они эффективно сортируют пациентов и определяют срочность их проблемы на основе введенных в приложение симптомов.
Национальная служба здравоохранения (NHS) протестировала такое приложение в Лондоне, и теперь около 1,2 миллиона человек используют этого чат-бота с искусственным интеллектом для ответа на свои вопросы вместо того, чтобы звонить экстренной службе. Подобный чат-бот использовался и в нашей стране в нескольких регионах во время пандемии COVID-19.
Будущее — за симбиозом?
Скорее всего — да. Ведущие эксперты по медицинскому ИИ в мире призывают стремиться не к автономности, а к симбиозу ИИ и врачей, называя это идеальной концепцией. «Противопоставление человека машине вызывает ненужные опасения: ни ИИ сам по себе, ни врач не смогут превзойти партнерство человека и ИИ». И чем раньше мы начнем осваивать новые инструменты, тем большего успеха в этом партнерстве достигнем.


